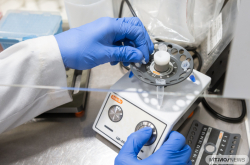Недавно исследователь также присоединился к программе ITMO Fellowship и провел отдельный курс для студентов ИТМО по приглашению научно-образовательной лаборатории «Техническое зрение» ИТМО.
― Вы уже больше 20 лет занимаетесь биомедицинской фотоникой. Что это в целом за направление и какие возможности оно для нас открывает?
― Это научная дисциплина, которая изучает взаимодействие фотонов с биологическими объектами — сосудами, тканями и органами. Сейчас почти каждый носит фитнес-браслеты или умные часы, показывающие пульс, а в пандемию коронавируса все закупались пульсоксиметрами, которые измеряли насыщение артериальной крови кислородом. Это самые простые примеры носимых устройств из области биомедицинской фотоники.
В целом с помощью этого направления мы можем отслеживать довольно много параметров в человеческом организме и диагностировать разные заболевания. Например, с помощью светодиодов или луча лазера можно регистрировать тканевую сатурацию, кровенаполнение, перфузию (прохождение крови через ткань), рассчитать индекс меланина, который защищает кожу от вредных ультрафиолетовых лучей.
В общей сложности биомедицинской фотоникой я действительно занимаюсь больше 20 лет, защитил по этому направлению кандидатскую и докторскую диссертации. В 2010 году нам удалось создать одноименный научно-технологический центр в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева. Как раз в этом центре мы стараемся внедрять конкретные инженерные технологии на основе биомедицинской фотоники в работу различных медучреждений.
― Расскажите, подробнее, что это за технологии.
― Например, недавно мы завершили проект по постковидной реабилитации, который делали вместе с национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России. В чем его суть: после пандемии люди стали жаловаться на «слабость» и ухудшение памяти. Чтобы оценить нарушения в системе микроциркуляции крови и изменения тканевой перфузии в области лба, мы предложили пациенту решить несколько когнитивных тестов ― например, найти в специальной таблице (ее называют таблицей Шульте ― в честь разработчика метода, немецкого психиатра Вальтера Шульте) объекты в определенном порядке. А задачей исследователя было во время теста измерить периферический кровоток пациента.
Обычно показатели снимают с пальцев или предплечий пациента, но мы предложили использовать лоб для исследования тканевой перфузии (прохождение крови через ткань). Результаты исследования показали, что уровень кровотока в коже головы был снижен у пациентов с выраженными постковидными нарушениями. Это может быть связано в том числе с когнитивными проявлениями постковидного синдрома — нарушением памяти, концентрацией внимания и так далее.
― Вы упомянули о возможностях для диагностики. В целом есть очень много разных известных и давно опробованных методов. А какие преимущества здесь может дать биомедицинская фотоника?
— Самое главное — оптическая неинвазивная диагностика. В отличие от гистологии или эндоскопии, такой метод определения нарушений менее травматичный и более безопасный. Его можно использовать при выявлении патологических процессов на более ранних стадиях, чтобы изучить объекты менее миллиметра, которые невозможно разглядеть на УЗИ, КТ и МРТ. К тому же обследования методами биомедицинской фотоники можно назначать пациентам без ограничений по заболеваниям и беременным женщинам.
Еще одно преимущество ― использовать эти методы можно довольно широко. Например, вместе с научно-исследовательским институтом акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта мы исследовали осложнения при сахарном диабете у беременных женщин. В организме беременных происходят метаболические изменения, которые врачу трудно отследить. С помощью портативных анализаторов мы собрали информацию о периферическом кровотоке пациенток и изучили симптомы, чтобы доктора вовремя заметили изменения и назначили соответствующее лечение, которое минимизирует осложнения беременности при сахарном диабете.
Также с помощью носимых датчиков мы мониторим сон и хотим изучить, как и почему возникает бессонница. Сейчас для этого используют электроэнцефалографию. Пациент надевает шапочку с огромным шлейфом проводов и пытается уснуть, чтобы врачи записали активность его мозга во сне. Мы пытаемся заменить этот неудобный метод на портативные анализаторы, которые записывают перфузию (прохождение крови через ткань) и передают данные по Bluetooth. Сейчас мы записали данные, полученные во время сна 15 волонтеров, и обрабатываем эту информацию.
Также методы биомедицинской фотоники можно использовать для миниинвазивной хирургии. Однажды к нам обратился хирург, который выполняет чрескожную пункционную биопсию печени. Под контролем УЗИ в орган вводится специальная игла, забирается биопсийный материал для цитологического и гистологического исследований. По итогу обследования выясняется природа новообразования печени пациента. Но проблема в том, что точность позиционирования биопсийной иглы в опухоли сильно зависит от опыта врача-хирурга. Ошибки могут достигать 25-30%, а второй попытки взять биопсию за один раз не будет. Чтобы врач смог точно добраться до опухоли, мы добавили в биопсийную иглу методы биофотоники, которые позволяют анализировать различные медико-биологические параметры тканей печени — например, тканевую сатурацию, амплитуды флуоресценции эндогенных флуорофоров — и подсказывают врачу более точное место локализации области опухоли. В итоге мы повысили точность взятия биопсии до значений более 90%.
В целом мы продвигаем мультимодальный подход — объединяем несколько методов, чтобы получить больше достоверной и комплексной информации о заболевании. Когда врачи рассказывают о своих проблемах в диагностике, мы сначала изучаем объект исследования — микроциркуляторно-тканевые системы организма человека, а потом подбираем подходящие технологии.
— Порог входа в биомедицинскую фотонику кажется очень высоким. Что нужно знать тем, кто хочет работать в этой области?
— Это абсолютно междисциплинарная наука. Я обычно говорю, что мы одной ногой в биомедицине, а другой — в инженерии. Остаться на одной стороне не получится. Вдобавок нужно разбираться в медицинской и «обычной» физике. Поэтому идеальный вариант — закончить бакалавриат по медико-технической или физической специальности, а магистратуру — по биологической или биофизической, или наоборот. В остальных случаях лучше пройти курсы дополнительного профессионального образования, если действительно нравится эта сфера.
— А как, по вашим прогнозам, направление может развиваться в будущем? Каких новых возможностей или даже прорывов можно ждать в этой сфере?
— Основные недостатки биомедицинской фотоники в том, что глубина проникновения света в ткань или орган небольшая — всего несколько миллиметров. Иными словами, глубина диагностирования биоткани весьма ограничена. Чтобы решить эту проблему, ученые проводят эксперименты с разными реагентами, которые делают наши ткани более прозрачными.
Например, американские исследователи уже смогли сделать прозрачным живот живой мыши, чтобы наблюдать за органами. В России метод просветления биотканей придумал и развивает один из выдающихся ученых и основателей направления биофотоники, заведующий кафедрой оптики и биофотоники Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, член-корреспондент РАН Валерий Викторович Тучин. Он предложил наносить подобные реагенты (например, глицерин) на кожу, чтобы вытеснить из нее воду и создать однородную среду для визуализации тканей. За вклад в науку Валерию Викторовичу в прошлом году вручили национальную премию «Вызов» в номинации «Ученый года». Конечно, с этой технологией мы не станем «невидимками», но немного «просветлиться» сможем.
Если говорить про общемедицинские тренды, гистологи беспокоятся, что в ближайшие 10–15 лет искусственный интеллект оставит их без работы. Обычно специалистам нужно 3–7 дней на исследование биоматериала, чтобы четко ответить, есть ли опухоль и какая. ИИ может справиться с такой задачей за пару минут. Думаю, в ближайшем будущем большинство докторов всех специальностей будут ставить диагнозы с помощью систем поддержки принятия врачебных решений, а те же гистологи — разбирать спорные случаи. То же самое касается врачей-рентгенологов, работающих с КТ, МРТ и УЗИ. Уже сейчас есть стартапы, в которых ИИ быстро и с меньшим количеством ошибок описывает снимки, а врачам остается проверять и утверждать диагнозы.
— Совсем недавно вы присоединились к команде ИТМО по программе ITMO Fellowship. Как узнали об университете и почему решили сотрудничать?
— Я знаком с ИТМО довольно давно, примерно с 2000-х годов, а с 2014 года наши студенты ежегодно выступают с докладами на Конгрессе молодых ученых, который проводит университет. Там мы узнали о видеокапилляроскопии — методе визуализации движения эритроцитов по капиллярам в ткани на ногтевом ложе. Такой метод можно широко использовать для диагностики нарушений периферического кровотока, например при сахарном диабете. Конечно, я заинтересовался и познакомился с теми, кто с этим плотно работает в ИТМО — с профессором Игорем Гуровым и его коллегами, например ― директором научно-образовательной лаборатории «Техническое зрение» Максимом Волынским и другими сотрудниками университета. С тех пор мы решили обмениваться опытом и идеями. У ИТМО больше экспертизы в разработке технологий ИИ и оптических систем, а у нас — в создании медицинских приборов и внедрении их в клиническую медицину.